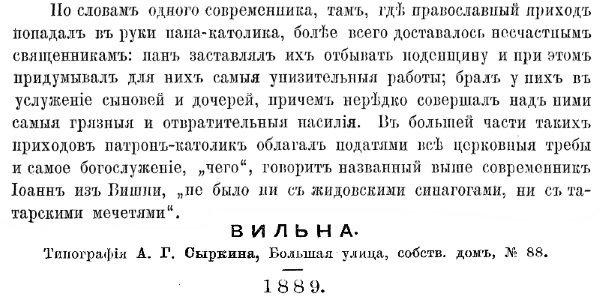Николай Гастелло
7 ч. · отредактировано ·
Я знал, что Марина в Донецке, когда появились сообщения о сильном обстреле города. Я увидел ее "огонек" в фейсбуке. Это так странно видеть онлайн человека, который точно сейчас находится под обстрелом. - "Марина, привет, как ты там?" - "Нормально. Сижу на дрожащей табуретке". - "Близко?" - "Да" - "А если как гром грохочет это далеко? Раскатами?" - "Смотря что дрожит. Только стекло или стены тоже?" - "А если ничего не дрожит?" - "Тогда надо закрыть окно. Это далеко". Простое знания о работе артиллерии по городам от девочки, которая в цветном платье до пола проходила все месяцы войны, чтобы никто не сомневался, что она женщина. Марина брала интервью у генералов и офицеров ВСУ, у Захарченко и Плотницкого. Ее выводили на расстрел, а потом на блок-посту выводили на расстрел ее водителя. Под аэропортом наводчик среагировал на ее яркое платье и Захарченко лично вытаскивал ее из под минометного обстрела, в которой по большому счету сам ее и завел. Потом она пересекала линию фронта, и летела во Львов в гости к своей подруге, тогда еще вполне так себе агрессивной националисте. Потом возвращалась в Москву. Помогала каким-то семьям с Донбасса. И опять улетала на войну. А сегодня Марина написала в своем фейсбуке "слабонервным не читать". Никому это не надо читать. Но надо читать всем и до конца. Или отвернуться и точно знать, что ты не "не читал". Ты отвернулся.
Какую цену заплатил Донецк за призрак перемирия
Донецк. База батальона «Восток»
Территория батальона «Восток» окружена забором. В воздухе — мороз и отдаленные раскаты «Градов». По дорожке идет полковой священник в подряснике и военной куртке.
— Батюшка! — окликает его высокий мужчина, и, приблизившись, склоняет для благословения голову. Отведя отца Бориса в сторонку, он тихо, давя на слова, говорит тому в ухо: — Я их спрашиваю: «Вы для чего сюда пришли? Учиться? Хотите быть солдатами, умейте ударить!» А они мне начинают рассказывать, какие они хорошие и не могут человека бить… А тут еще брат звонил, сказал: «Знал бы, что война будет, не пил бы, здоровье б берег…» Монах, — представляется он, заметив мой взгляд. — Бывший десантник, тренирую бойцов. Когда-то хотел стать монахом… А вообще-то тринадцатого декабря у меня погиб сын.
РекламаВ лице отца Бориса ничего не меняется. Священник только кивает седой головой и продолжает молчать, когда Монах рассказывает подробности смерти своего сына.
— Они пошли за «двухсотым». Танк должен встать на поле так, чтобы раненого или убитого прикрыть, — руками он показывает местоположение машины, словно начинает инструктаж. — Развернуть ствол и пулемет так, чтобы высматривать с брони снайперов или гранатометы. Загрузить. Снайпер выстрелил сыну под правую лопатку. Если бы его вовремя привезли… но он истек кровью.
— Стоила жизнь вашего сына того, чтобы забрать другого убитого с поля боя? — спрашиваю его.
Монах поднимает к небу глаза, всем видом демонстрируя, что на любой ученический вопрос требуется, сохранив спокойствие, дать терпеливый ответ. Батюшка следит за ним цепкими голубыми глазами.
— Тело должно быть предано земле, — с расстановками отвечает Монах.
— Что вы чувствуете по отношению к тому снайперу?
— Он такой же солдат, как и я.
— Что вы вообще чувствуете?
— Я — образец военной подготовки, — снова подняв глаза к небу, чеканит он, — Железный Феликс, если хотите. Крепкий и несгибаемый… Поверьте, свои эмоции можно контролировать.
Но стоит ему произнести эти слова, как под нижние веки его темных глаз выходит влага, не похожая на слезы. Он шумно втягивает воздух и становится похож на человека, подвергаемого сейчас тяжелой пытке, которую он собирается перетерпеть молча.
— Поверьте, — криво ухмыляется он, — у меня дома лежит специальный платочек, четки и свечка… — дотронувшись до ножа, он уходит.
Батюшка идет дальше. Об отце, потерявшем сына, он говорит только одно: «Он хотел стать монахом, вот он им и стал».
К штабу ведет крыльцо, огороженное от плаца пристройкой из красного кирпича. Плац в движении — здесь курят и возвращаются в штаб, отсюда спешат за территорию базы машины, и ворота, открываясь и закрываясь, пропускают и выпускают новые. Со ступенек спускается рыжий мужчина лет пятидесяти с мягким одутловатым лицом.
— Володя… — тихо произносит священник, не обращаясь к нему. — Воин по духу, хотя простой шахтер. И я бывший шахтер. И вот мой друг Володя, — продолжает он, наблюдая с расстояния за мужчиной, — пережил страшные кошмары и страдания, когда уложил пятерых. Стрелял вплотную, а это — серьезная вещь. Пришел ко мне за помощью.
— И что вы ему сказали?
— А не знаю… Просто поговорили. К убийству не привыкнуть. Душа у него болела… В начале девяностых одна прихожанка привела меня к своему отцу — пособоровать и причастить его перед смертью. Он был летчиком во время Второй мировой, и он сказал мне: «Постепенно до меня дошло, что немцы тоже были людьми». Это очень непростые вещи, — он шумно и нетерпеливо вздыхает. — «А если бы те пятеро прошли?» — спросил я Володю. «Они бы убили и тебя, и твоих товарищей». Куда деваться? Мы вынуждены это делать. И это — не Володина вина, а наша общая — моя и ваша.
Заметив священника, Володя направляется к нему. Сложив руки, принимает благословение. На его лице, когда он поднимает голову, — мягкая осторожная улыбка. Они со священником обмениваются взглядами, и отец Борис кивком головы показывает ему: «Все знаю».
— Я подпустил их близко, — говорит Владимир, рассказывая о том бое. — Выстрелил, у него на шее пятнышко появилось, и кровь пошла из него струйкой. И остальных перестрелял. Потом гранату достал, а из нее чеку — для себя. Танки шли. А мне не стыдно было уходить — я свое дело сделал. Другой рукой крестик свой достал, поцеловал его. Молитв не знал, просто просил прощения у Бога. И тут мне так легко стало, и мысль пришла — танки стреляют, пыль идет, значит, в пыли можно побежать и спрятаться в зеленке. А потом вспомнил убитых, и слезы потекли… А батюшка сказал, что церковь не осуждает, — он прикрывает глаза и, запрокинув лицо вверх, чему-то мягко улыбается.
Кабинет священника находится прямо на базе. На его двери табличка — «Батюшка». Здесь есть два стула, тумба и стол, на котором стоит компьютер. Батюшка, сняв куртку, садится за него и углубляется в документ, высвечивающийся на экране — «В какой-то степени войну можно уподобить деторождению. Зачатие детей происходит в страсти, и поэтому каждый младенец подвержен первородному греху… Так и на войне православный христианин поднимает свой меч не чтобы спасти себя самого, а чтобы спасти свой народ, своих ближних, свою веру…»
Кальмиус скован льдом. Город прошивают залпы «Ураганов», которые похожи на огненный рык чудовища, засевшего за чертой города. Прохожие не замедляют крадущейся осторожной походки по набережной, покрытой коркой тонкого льда. Светятся стволы тонких берез. Белеют дутые головы фонарей. Скоро снаряд прилетит в очередь за гуманитарной помощью, которая выстроилась возле местного дома культуры. Погибнет двенадцать человек.По улице Ильинская тянутся ряды одноэтажных частных домов. Некоторые разбиты, заборы держат куски шифера, слетевших с крыш. Посеченные фонарные столбы с повисшими проводами, поднимаясь выше черных деревьев, проходят через все небо, располосованное в серый, белый и серо-желтый, говорящий о том, что завтра будет солнечно. Дома, разворошенные снарядами, показывают бедное убранство здешней прежней жизни. В один из дворов ведет запертая дверь, но самого забора больше нет. Отсюда видны стены комнат, заклеенные желтыми обоями, почерневшая от огня треугольная крыша дома. Возле воронки во дворе — оконные рамки, двери, куски мебели и каркас ядовито-зеленой детской машинки. Здесь погиб ребенок, а его матери оторвало ногу.
По корке острого льда тонкими лапами скользит маленькая дворняга. За ней следует дед в мешковатых грязных штанах.
— Ее мамку спалило, — говорит он. — Она в будке родила щенков. Будку перевернуло, одна эта осталась, — он кивает на собаку, и та оборачивает к нему огромные светящиеся глаза. — Сейчас мы с ней в гости идем к соседу.
В заднем дворе у разбитого дома лает большая собака. По ее лаю не понять — она оставлена тут охранять разрушенное добро или забыта на цепи.
С другой стороны улицы молодой человек в гражданском моет забор жесткой щеткой. За забором растет высокий орех. Губы человека сжаты, отчего на щеке видна одутловатость.
— Там во дворе собака лает, — приближаюсь к нему. — Вы не знаете, она на цепи?
— Что собака, — поворачивается он. — У меня тут отец вышел к калитке, его положило. Вот отмываю калитку от его крови, — он снова берется за работу, макая щетку в ведро.
— Можно выразить вам соболезнования?
— А вы не из Украины?
— Из России. Показать паспорт?
— Покажите… Выражайте, — приняв соболезнования, он уходит в дом, но вскоре возвращается с пластиковой коробкой из-под круглого торта. Она заполнена осколками снаряда, попавшими в отца. — Он вышел покурить, — говорит молодой человек. — Открыл калитку вот эту вот, и все… Он сторожем работал в больнице, и мамка там же — медработником, — руками в вязанных рабочих перчатках он обнимает коробку. — А я работаю на хлебзаводе механиком. И, получается, вышел я на смену, мне сестра звонит — весь поселок сложило, у нас полдвора улетело, отец погиб. А брату его троюродному глаза повыбивало. Они вместе работали — меняли друг друга. Он подошел к окну, и ему осколками этими в глаза. Он в больнице лежит и спрашивает: «Почему мне Серега не звонит?» А ему не говорят, что батю положило сразу здесь. Ладно… пойду я заниматься делами. А Антону я позвоню насчет привязанной собаки, он родственник ихний, — показывает на тот двор. — У нас вон, видите, за столбом миска стоит, мать подкармливает всех этих собак.
Из двора выходит мать — в халате и накинутой поверх него куртке. От нее сильно пахнет валидолом. В глазу у нее — кровавый клубок лопнувших капилляров.
— Хуже уже не будет, — говорит она. — Я сейчас сижу на валидоле и корвалоле. Вон его куртка, — она поднимает глаза к дереву, на верхних ветвях которого висят клочки одежды. — Украсил он мне орех своей курткой. Все разлетелось. Голый остался.
В общежитии для беженцев отец Борис занимает небольшую комнату. Над входной дверью с той стороны висит бумажная икона Святителя Николая. Священник сидит в низком кресле, за бок которого заткнут старый черный дипломат. На голове у него — наушники для стрельбы из снайперской винтовки.— Хорошие наушники, — поправляя их, говорит отец Борис. — Ребята подарили, чтобы лучше слышал. Я уже на церковном покое. Трудно мне службу служить из-за плохого слуха. Попросился сюда и здесь делаю то, что могу. Да все очень просто.
Над его головой висит картина — высокий ручей спускается между синих сосен. Через редкую тюлевую занавеску просвечивают верхушки деревьев.
— Церковь правильно делает, — продолжает он. — Вот сейчас идет гражданская война, и если церковь займет чью-то сторону, то это в принципе будет неправильно. Потому что люди равны. Злом зло не победить. Только добром. Только так и нужно. А другого пути нет… Я как-то беседовал с нашими ребятами, спросил их: «Что такое по-настоящему победить врага?» Они мне ответили: «Ну, взять его в плен, убить». «Нет, — сказал им я, — по-настоящему победить врага — это сделать его своим другом». Вот это будет настоящей победой… Видишь ли, — он спускает наушники за голову, — к религии я пришел осознанно. Я ведь и не верю в Бога. Я эту стадию прошел. Я — человек, который убедился и знает, что Бог есть. А к войне у меня однозначное отношение — в ней есть смысл и попущение Божие. Если б не было войны, было бы хуже. Конфликтов может не быть только в раю. А в этой жизни все перемешалось — добро и зло. Наши прародители Адам и Ева так захотели, а люди теперь разбираются. Когда конфликт в обществе по-другому решить нельзя, начинается война. И, как ни странно, она должна принести пользу. Одних война ставит, других — ломает. И там, и тут встречаются люди, для которых война — мать родна. Их натура — насилие и мародерство. Но все же задача общества — защита своей земли, образа жизни, без которого мы не можем. Иначе бы люди не пошли воевать. А она пошли вполне осознанно. И это стало важным очистительным и мобилизационным моментом. Люди потеряли дома, близких, но они находят в себе силы. Вот тебе мой отрешенный взгляд на войну, — его рыкающий голос, разделенный мерными паузами, разносится по маленькой комнате. Ободок наушников пригладил седую гриву. Священник похож на старого льва. — Подожди… я тебе скажу. К сожалению, война, если ее не остановить сейчас, пойдет дальше. И когда она закончится? Если б мы знали. И слава Богу, что не знаем. Ты вспомни, в каком состоянии Советский Союз вступил во Вторую мировую и в каком из нее вышел. На людях до войны еще сказывались отголоски гражданской войны, лагеря и все прочее. А за время войны произошло духовное переформатирование людей. Когда началась война, Сталин в первые дни не выступал с обращением, только через двадцать дней его голос прозвучал по радио, и начал он свою речь словами «Братья и сестры…» Война сплотила всех. Так и здесь, на Донбассе, происходит быстрое переформатирование людей. Мы не можем сейчас прекратить войну, это не в наших силах. Но мы за это боремся, становясь другими людьми. Ведь не только силой побеждают на войне, но и правильным отношением… Что такое Антихрист? Идея, да? Люди ее раскручивают. Чтобы познать добро и зло. А мир держится на любви.
— Любовь из этого города ушла, — произношу я.
— Любовь — тут! Любовь — на месте! Любовь — это жертва. Сын Божий показал нам, как надо жить, и принял смерть без вины. Это — высшая жертва любви к людям. Это реальность. Я покажу тебе, каким должен стать человек после войны. Приходи в понедельник на базу в восемь утра, и сама все увидишь.
Темная приемная морга ведет в длинный темный коридор, где в кисло-сладком запахе, завернутая в одеяло, лежит на каталке женщина. Видна грива ее каштановых волос. У стен стоят люди с бескоровными лицами. Женские головы украшены черными платками. На корточках сидит ополченец, прижимая к уху телефонную трубку.— Носки, трусы, форма какая-нибудь летняя, чтобы красиво было в гроб Седого положить! — кричит он. — Чтоб по-нормальному! Десять дней назад погиб, до сих пор не можем похоронить пацана!
На двери, у которой он сидит, табличка — «Золото». Из темноты коридора появляется полный мужчина. Берется за ручку двери.
— Что вы хотели? — интересуется он. — Посмотреть на тела вчерашних погибших? — Золото входит в свой кабинет и лукаво улыбается оттуда. — Зачем? Вы ничем нам не поможете. Вы напишете, а войну-то не остановите. Знаете, еще почему нет — я не хочу, чтобы вы их фотографировали, а эти, на той стороне, радовались.
Асфальт перед моргом Калининской больницы — в буграх толстого льда. Дверь в морг открыта. Виден полированный гроб с золотыми ручками, в котором лежит немолодой мужчина в гражданском. Санитар опускает ему мокрую тряпку на лицо, а сверху покрывает ее пакетом. Над больницей высоко пролетает снаряд, сделав воздух на время своего полета шершавым. Гроб выносят и его молча принимают — следуя за ним к распахнутым дверцам микроавтобуса — женщины в черном.
— Я Роман. Вы меня спрашивали? — из дверей показывается молодой мужчина в медицинском костюме. Короткие рукава открывают его сильные, покрытые густыми темными волосами руки. — Заходите.
У входа в морг стоит корзинка, забитая пластиковыми бутылками и тряпками. Рядом на полу валяются грязные резиновые перчатки и слетевшие с чьих-то ног носки. Здесь, если посмотреть вправо, на столе лежит труп молодого мужчины, одетого в камуфляжные штаны. Роман следует дальше. В узком коридоре на каталке тело голого старика, который лежит, открыв рот и запрокинув голову с открытыми глазами к потолку. Сверху, выгнувшись на нем, лежит голая женщина средних лет. Ее половые органы тоже смотрят в потолок. Небритыми сморщенными ногами она обнимает лицо деда, борода которого — седа.
Плитка следующего отсека — в разводах запекшейся и свежей крови. На каталках — тела, у мутного окна — крупный мужчина с неестественно взбугрившийся грудной клеткой. Под окном свалены еще тела. Они лежат друг на друге, старые и молодые, смешав пятки, заляпанные кровью.
— Вот артобстрел, — идет дальше Роман. — И вот артобстрел.
В следующем отсеке трупы высятся от пола до середины стены. Они лежат, отвернув в сторону или задрав к потолку синие, желтые, свекольные лица. Руки и ноги выглядывают из общей кучи. Плотный запах жужжит гнилью. Сверху на куче стоит обрубок тела. Под ней валяются оторванные посиневшие руки и ноги — женские и мужские. Половые органы мужчин набухли, свесившись на бок, и кажутся неестественно большими для тел, ставших легкими и хрупкими после того, как их сразила смерть, которая как будто поставила на все лица одинаковую печать. Сделала лежащих тут похожими, напомнив о том, что все равны — и те, кто мог и хотел жить лучше, и те, кто не захотел или не сумел принять ценности европейской цивилизации.
— Поступил на исследование пластиковый пакет с фрагментами трупа, — слышится женский голос из прозекторской.
— Чего вы говорите? — наклоняется ко мне Роман. — Много?! Да вы много еще не видели! Половину сегодня утром забрали. Кладбища простреливаются. Только на двух сейчас можно хоронить. Вот артобстрел и вот, — показывает на тела, из которых выглядывает красное застывшее мясо. — А вон молодая женщина лежит — мать-одиночка. Дите у нее четырех лет осталось одно. А куда нам их класть?! Их каждый день так много, что нам просто некуда их класть! Вам надо было утром приехать, посмотрели бы… А мы тут еще успели полы помыть… Почему люди умирают? …Хм, ну, знаешь, этот вопрос как бы не к нам. Я бы на твоем месте этот вопрос осколкам задал и тем, кто стреляет. Только не «почему люди умирают», а «зачем людей убивают». Ты вопрос правильно ставь.
На ноги ополченца надевают маленького размера черные ботинки с круглыми носами. Завязывая шнурки, санитары тянут его ногу, и та дергается, шевелится на столе, словно ожив, но другой жизнью — мертвой. —
— Отвернись! Я кому сказал, быстро отвернись! — неживое гнилое пространство вспарывает мертвый треск. Подбородок ополченца дергается, ноги подтягиваются вперед. — А ну-ка, отверни-и-и-сь… — пальцы Романа взламывают ему рот, и тугое тело сопротивляется изо всех сил. Мельтешит черный кожаный ремешок, обхватывающий запястье сжатой в кулак руки. Сверху ее покрывает другая рука. Тело не расцепляет рук, оно трясет ими над грудью, словно мертвый молодой человек хочет сказать: «Хватит!»
— Да, ты права, живой человек — это чудо, — Роман хватает лезвие и проводит им по щекам мертвого. Холодный тупой скрежет проносится над открытыми глазами старика, лежащего на каталке, над ногами женщины, и скребется дальше — в прозекторскую, где из пакета сейчас вынимают фрагменты. И, кажется, что мертвым по-прежнему не все равно — они, не видя и не слыша, как будто ждут, когда и до них дойдет очередь быть на том столе, где обряжают.
— Будет у нас красивый, — продолжает скрести Роман. — Когда целовать будут, не будет колоться. Ха-ха-ха! — закатывается. — Прости, — говорит сквозь неудержимый смех. — Просто тут иначе нельзя.
Отсюда слышно, как по холодному небу проносится снаряд. Он глухой от того, что летит высоко. И воздух снова ощетинивается, а рука Романа продолжает двигаться, скрежет не прекращается и смерть продолжает говорить свои монотонные разговоры с живыми — через запах, который, поднимаясь от тел, забивается в волосы и поры, сладко проникает в носоглотки, кажется живым. И чем дольше лежат тут тела, тем осмысленней и громче разговоры смерти о конечности и тщетности всего.
— Это чтобы содержимое через естественные отверстия не вытекало, — говорит Роман, поднимая над трупом длинный отрез белой ткани. Сильными движениями он заталкивает ткань ему в рот. Вдруг раздается стон, и кажется, что ополченец долго сдерживался, прежде чем выдохнуть. Он сдержался и когда его убили, и когда лежал несколько дней в морге, гния, и когда ему сломали рот и отскребли бритвой щеки. И вот, наконец, испустил вздох, смирившись со смертью. Скоро вся ткань исчезает внутри тела.
— У меня брат в Москве сидит, — говорит Роман, — и считает, что я ненормальный. А у нас вон девчонка лежит. Дитю ее четыре года, из родных — никого. Может, завтра дальние родственники тело ее заберут.
***В кабинете отца Бориса пахнет ладаном. Он сидит, касаясь локтем купели с крышкой, пробитой снарядом, — ее привезли из Иверского монастыря.
— После таких сцен утешение можно найти только в религии, — говорит он. — Я крестил больше двух тысяч человек и стольких же отпевал. Тела остаются, но души-то у Бога… Души-то у Бога, — со спокойной убежденностью повторяет он. — Просто тело разлучается с душой… Что говоришь? — он надевает наушники. — Тело некрасиво без души? Как будто — душа Богу, а тело — антихристу? …Я скажу тебе, как я считаю… Вот этот запах… Моешься и не можешь избавиться от него. Запах смерти — это ведь запах совсем другого плана. Согласна? Но благодать не в теле, благодать — в душе. Ты почувствовала этот запах. Просто когда с такими вещами сталкиваешься, меняется и отношение к миру, и отношение к самому себе. И это — самое правильное… Как — эти люди не нужны?! Как — не нужны?! Не соответствуют европейским ценностям? …Безгрешных людей нет. Те, кого ты видела, они искупили смертью своей твои грехи и мои. А кто и как погибнет — тем Господь ведает. Наша задача другая — предать тела погибших земле. Если мы знаем их имена, я молюсь, если нет, то… на то и воля Божия. Вот и все, что я могу тебе сказать. Послушай меня… вопрос не в том, сколько проживет человек, а где потом будет его душа. Они — невинные пролили свою кровь за то, чтобы пробудить наши души. Господь их забрал. Все.
Звонит телефон. Прижав трубку к уху, священник, кивая рыкает: «Хорошо… хорошо…» Он открывает дипломат, в котором оказываются церковные принадлежности, и рассовывает его содержимое по карманам — большой крест, восковые свечи, библию с подгоревшим боком. Спускается вниз, позвякивая кадилом. На плацу у входа в штаб стоит бордовый гроб, где под белым легким покрывалом на белой подушке с золотой каемкой лежит ополченец. Его руки бугрятся под белой тканью. Он лежит, отвернувшись лицом к штабу. Отец Борис подходит к нему и кладет икону ему на грудь. С той стороны, где стоит священник, видно фиолетовое ухо мертвеца, заострившийся почерневший нос и жалобное выражение лица заснувшего в обиде ребенка.
На плац то и дело выходят покурить камуфлированные мужчины. Заглядывая в гроб, он делают глубокие затяжки жесткими ртами. Из-под покрывала выглядывают маленькие ботинки. С крыши срываются голуби и, мокро хлопая крыльями, пролетают весь плац. Ветер хватает покрывало и отбрасывает его с тела, открыв руки, которые сжаты на груди в уже знакомом жесте. С посещения морга прошло два дня, и на третий сюда, к плацу, привезли того самого ополченца.
К гробу подходит мужчина в обвисших штанах и синих матерчатых дешевых сапожках. С опаской заглядывает в него. Оборачивает на отца Бориса глаза — жидкие, похожие на едва схватившийся холодец.
— Я болен раком, — говорит он, — я сто раз видел смерть. Но мне ничего не надо, у меня все есть, только сына у меня больше нет.
Отец Борис хранит молчание. Подъезжает машина, из него выходит женщина с букетом хризантем и гвоздик. Она подходит к гробу и наклоняется к нему. Целует мертвого, говоря: «Сыночек». И он, имея в груди большую белую простыню, а потому — сухие губы, не пачкает и не колет опухшие щеки матери. Как и обещал Роман, он лежит в гробу красивый.
Отец кладет на грудь сына цветы. Ветер берется за обертку. Отец поправляет ее. Справа от гроба висит щит «Служение народу — наивысший закон». Женщина тяжело дышит, а скоро начинает задыхаться.
— Тише мать, тише, — говорит отец, сжимающий в карманах кулаки. Женщина прекращает.
Раздается рыканье «Града». Отец Борис затягивает молитву. Звенят цепи кадила. Возле гроба выстраиваются шеренгой военные в касках и бронежилетах. У изголовья стоит молодой человек с мутными голубыми глазами. Опустив плечи, он смотрит мимо гроба. Но если смотреть с его стороны — от двери штаба — то левая сторона лица мертвого, в отличие от правой, выражает страдание. Голос отца Бориса крепнет и от этого дрожит, словно он точно знает, кто сейчас выслушивает его просьбу принять ополченца на вечный покой.
— Помилуй… прими… — говорит он.
Белый микроавтобус автобус с гробом выезжает из ворот базы и следует к кладбищу. Серое небо стоит над городом. Низко летают крупные вороны. На пути встают закрытые магазины и развлекательные центры. Один из них зазывно обращен к дороге — «Остров Сокровищ». За деревьями появляются верхушки терриконов — автобус движется в сторону Марьинки, к линии фронта. Прохожие двигаются словно в тумане, который складывается из мороси, нередких раскатов града и карканья птиц. Женщины медленно катят перед собой коляски. Тянутся почерневшие заборы. Разбомбленные дома. Разбитая детская площадка. И все это, встав на пути автобуса с мертвым телом, складывается в картину, которая, кажется, написана только для того, чтобы показать смотрящему — все гибло и тленно.
На кладбище гроб ставят на две деревянные табуретки перед вырытой у самого края ямы, которая чернотой своей свидетельствует — земля здесь богатая, жирная. Бойцы в касках и бронежилетах выстраиваются спиной к окраине кладбища, где нет могил, а только высокие деревья путаются с электрическими столбами. Лают собаки. Кричат вороны. Возле гроба шеренгой стоят отец, мать, сестра и ее муж. Больше никто из родственников на это кладбище не пришел.
— Сыночек мой! — голос матери смелеет. — Сыночек! Как мы жили?! Как мы жили, сынок?!
— Что ты матери… — склоняется отец. — Ну что ты матери… Сынок…
— Ха-а-а… Ха-а-а… — выдыхает в гроб сестра, плотно запечатав себе рот ладонью.
Они говорят по очереди, и это прощание навек заканчивается слишком быстро, продлившись слишком долго для линии фронта. Отец пытается расцепить сжатые руки сына. Но те сцеплены намертво в посмертном жесте, который как будто говорит — «Лады, ребята, хорошо». Как будто этот мертвый еще при жизни добровольно согласился на раннюю смерть. Принес себя в жертву, а, как говорит отец Борис, там, где добровольная смерть — там и любовь.
Гроб заколачивают — «тук-тук-тук» по каждому краю. Один из бойцов поднимает руку:
— Огонь!
Автоматные очереди.
— Огонь!
Очереди.
И так — трижды.Отец хватает горсть черной земли. Кашляет хныкая, как это делают неизлечимо больные.
— Я сам, — приговаривает он, бросая землю в гроб, и, взобравшись на кучу, хватает еще. — Я сам, сыночек мой. Своими руками, сам.
— Он родился в Марьинке, погиб на блокпосту, — говорит человек с мутными глазами. — Я — его командир… Как это все надоело.
Кладбищенские рабочие чистят лопаты. «Скреб, скреб, скреб» — разносится по кладбищу. Готовятся копать следующую яму.
***Открывается замок решетки, и отец Борис входит в камеру, где, сгрудившись на полу, сидят на несвежих матрасах пленные. Только один лежит на кровати с перебинтованными ногами. Синие стены украшены прошлогодними бумажными снежинками. Солнце бьется в зарешеченное окно. Пленные поднимают на священника мрачные лица.
— Ребята… — начинает священник, — вы можете обращаться ко мне по любому поводу, и я вам обещаю, что если даже вы пожалуетесь, то вам ничего не будет…
Пленные молчат.
— У нас все есть, — наконец произносит один. — Нам дают каждый день звонить родителям. Лекарства для него приносят, — он кивает на лежащего. — Одно страшно… когда мы теперь, находясь тут, каждый день узнаем, сколько мирных погибло в городе.
— Нас же когда мобилизовали, мы не знали, что тут такие обстрелы.
— Мы — из Днепропетровска. На блокпосту стояли… Нас поставили на самое пекло, ты стоишь и не знаешь, куда бежать…
— Не знаешь, стрелять или застрелиться, — поднимает от колен светло-русую голову молодой мужчина. У него такое лицо, какие изображаются на картинках с русскими богатырями. — Назад пойдешь — свои застрелят. Вперед пойдешь — убьют тут.
— Ребята… — вздрагивает отец Борис. — Я ведь с вами по-нормальному разговариваю, ребята? Правда же, ребята? Мне вас искренне жаль. Я не хочу, чтобы ваши люди гибли. Мы что, уже вообще того?! Сейчас нужен мир — всем нам. Почему мы встали друг против друга? Ну, хотелось вам беситься на Майдане — да беситесь! Это — ваш выбор. Но вы — люди. И вы — наши люди. Не ясно, что ли? Вы — нормальные люди. Но почему же вы нас убиваете? Мы просто вынуждены защищаться. Вы поймите. Ну не хотим мы в Европу. А вы — идите. Но мы с вами все равно едины, мы — славяне. У меня к вам нет никаких претензий, но нельзя же ездить по городу на машинах и из минометов шпарить!
— Нельзя…
— Ребята, вот вчера отпевал ополченца. Приехал его больной раком отец. Говорит, их род на сыне закончился.
— Батюшка, что же это такое? — плюхается на корточки охранник. — Батюшка, что происходит? Обхохочешься, — ладонью он вытирает изможденное узкое лицо. — Блин. Брат на брата пошел. Прямо как в Библии. Режем друг друга, как баранов. Меня самого недавно обменяли. Били там. Весь в шрамах. Но я же не мщу. Зачем уподобляться? Батюшка… — снова зовет он, — но они же — все равно наши братья?
— Я никогда не думал, что доживу до такого, — отец Борис опускается на табурет. — Я не знаю, о чем вы думаете, ребята, но мне необходимо это понять. Закончим войну, и разбирайтесь со своей Европой сами. Делайте что хотите. У вас своя земля есть.
— Какая жизнь началась… — говорит охранник. — Не дай Бог… Не дай Бог…
— Но ведь не хочется же убивать, правда?! — отец Борис цепко оглядывает все лица. — Ведь не хочется! Война не закончится без нас. Мы сами ее должны закончить. А куда деваться? Ведь война — это не люди, это идеи, которые хапают людей. Мы должны покончить с этими идеями. Правда? Ну ведь правда! Победишь себя — победишь войну. Мы должны в первую очередь стать людьми — сильными людьми. Мы с вами должны стать друзьями.
Спустившись вниз и встав на плацу на том месте, где вчера стоял гроб, священник задумчиво произносит: «А мы за что воюем? Трудно сказать. Просто мы не можем согласиться с ними».
Понедельник. В проходной штаба отец Борис расстилает на столе цветное полотенце. Кладет на него библию, свечи, ставит иконы.— Ты сейчас сама все увидишь, — говорит он. — Они относятся ко мне с огромным уважением, но они будут проходить мимо. А знаешь, это что? Показатель нашего состояния. Вот когда они встанут на молебен, тогда мы победим. Это произойдет не сейчас, но я это должен делать уже сейчас. Мы должны победить не силой оружия, а силой любви. Сила духа — в любви. Ты наблюдай, а я спокойно буду делать свое дело, не навязывая.
Бойцы мельтешат в проходной. Они не останавливаются, когда отец Борис сильным голосом, в котором все же слышится волнение, затягивает: «Господу помолимся…»
— А, извини! Елки-палки, не того набрал! — проносится мужчина с телефоном.
Кто-то, окинув спину отца Бориса равнодушным взглядом, спешит дальше по лестнице. Кто-то тормозит и чиркает на себе размазанный крест. А кто-то проносится, ничего перед собой не видя, поправляя на ходу кожаный планшет.
Влетает группа бойцов. Их командир резко тормозит. Останавливается. Останавливаются и шедшие за ним. Крестятся. Спешат, но ненадолго задерживаются. Уходят. А отец Борис, несмотря на суету за своей спиной, в целом спокоен. Как человек, который знает — то, чего он ждет, непременно случится. Может быть, не сейчас. И, может быть, не при его жизни. Но случится все равно.