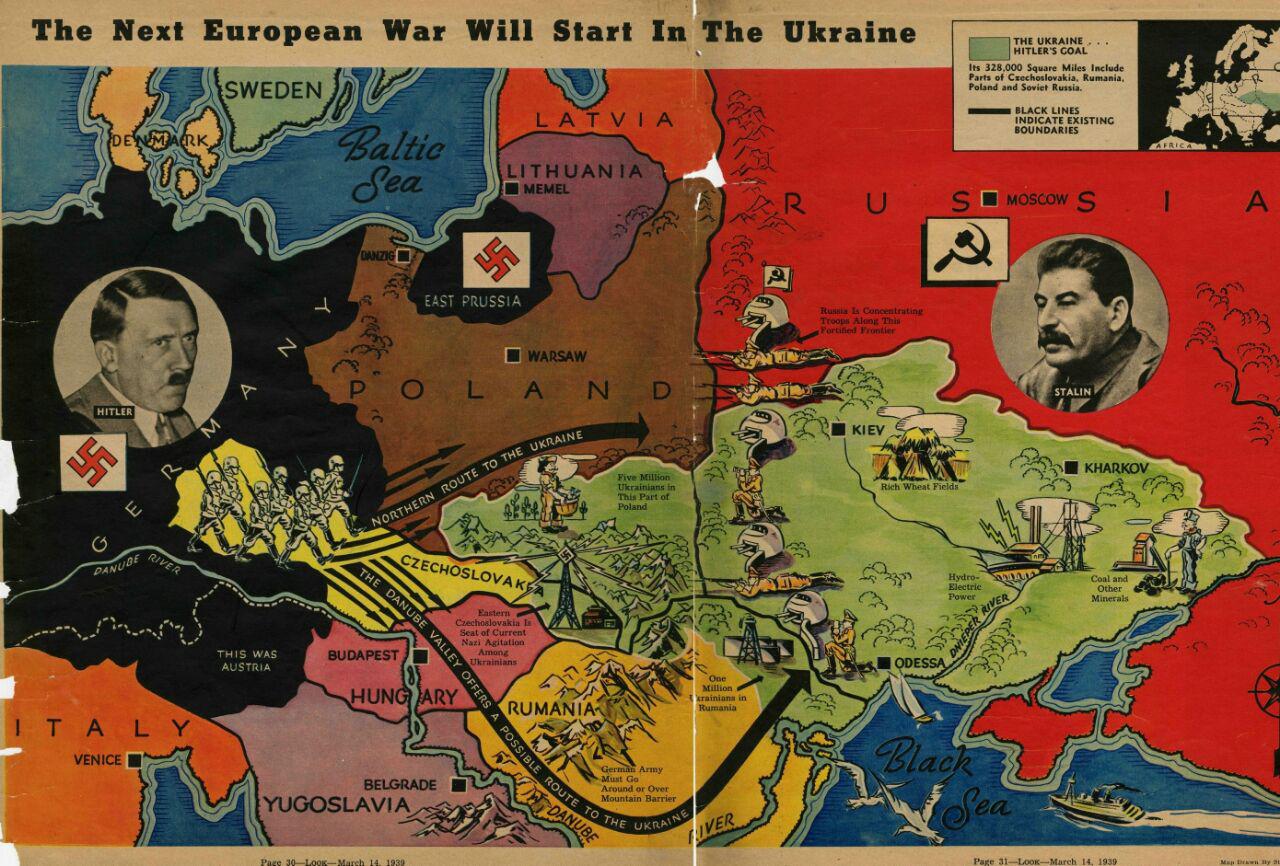Мы сидели с писателем Сашей Карасёвым. Бабченко был самый высокий из нас, детина, метр девяносто. Все трое, мы служили в Чечне. Все трое по несколько раз. Но в разных местах и в разных войсках.
Бабченко вёл себя уверенно, сразу сказал, что моя книжка о Чечне («Патологии») ему не нравится. Я пожал плечами: да ради Бога. Я не очень обидчивый на такие вещи.
Некоторое время мы с ним приятельствовали.
Он был совершенно аполитичный тогда.
Во второй половине «нулевых» я зашёл к Дмитрию Муратову в «Новую» что-то обсудить, но его не было, и мы пошли с Бабченко пить пиво. Он всегда пил на халяву. По крайней мере, когда он пил со мной, я всегда его угощал. Он сразу предупреждал, что пустой, и я говорил: фигня.
Это как раз я был тогда сильно политизирован, ненавидел буржуазию, олигархию и российский капитализм как таковой, подзуживал его на этот разговор, он отвечал, что его интересует только штанга, дочка и война. Это был 2007-й, точно.
Мы выпили по пиву, потом по водочке, потом он вдруг сказал, что если б ему в армии сказали, что он будет бухать с такими людьми как я, он бы ошалел от счастья. Я ещё раз пожал плечами, я вообще не понял о чём он. Мы были плюс-минус ровесниками, с примерно одинаковыми биографиями, почти одновременно стартовали в литературе, с одной и той же темой; разве что я за пару лет получил несколько премий, а он вроде бы нет — но статус наш едва ли тогда отличался.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аркадий Бабченко: За что убили журналиста
Аркадий Бабченко: За что убили журналиста
Он мог погибнуть на войне в Чечне, а получил пулю в спину на пороге своей квартиры
Но он вдруг дал понять, что смотрит на меня снизу вверх: такая громила.
Из «Новой» его периодически выгоняли, всякий раз за какие-то пьяные выходки: мне кажется, в Бабченко играла армеечка, и вообще он был дитя. Бесприютное дитя, не умеющее себя найти.
Прозой своей он доволен не был, хотя писал лучше многих именитых из нашего поколения; с женой у него, как я понял, не ладилось, денег не было — вот он болтался туда-сюда, ждал войны.
Просто войны, не за кого-то.
Он и по контракту второй раз (после срочки) пошёл явно потому, что там ощутил себя человеком. Не за адреналином пошёл, и не в силу идеологических убеждений, которые у него отсутствовали напрочь, а в силу того, что там он был живой, к тому же, в целом справлялся и с опасностью, и со страхом.
Пьяный он становился борзый, не со мной борзый, здесь он всегда оставался предельно корректен, а с окружающим миром. Помню, как он после какого-то митинга стал на пути машины, где сидел Абызов, лимузин сигналил, Бабченко не двигался. В итоге машина проехала ему по ноге. Бабченко за ней некоторое время бежал, хромая. Кричал что-то.
Если б выбежала охрана (не знаю, была ли она в машине), разруливать пришлось бы нам обоим. Или мне одному — как пошло бы.
С конфликта 08.08.08 он писал вполне себе вменяемые репортажи, стараясь не принимать ни одну из сторон, насколько я помню. Я всё подряд не читал, но то, что мне попадалось на глаза, было написано дельно, чётко, жёстко. Ему, по совести говоря, не было жалко ни чеченцев, ни грузин — но он и русским себя не ощущал; и уж тем более я никогда не слышал от него, что он украинец или там еврей.
В 2011 году на митингах протеста мы оба были на площади Революции. Когда все либералы ушли на Болотную, Бабченко остался с нацболами*, стоял там злой — он хотел движа.
В итоге я тогда, в первом же интервью в тот день, объявил, что с либералами вообще дела не имею отныне, а Бабченко, напротив, перебрался в ту компанию. Думаю, он ощущал в той среде себя мужчиной, вожаком — там такие редкость — он не боялся полиции, дубинок. Не страшился быть избитым, отсидеть свои сутки. Ну, почти ж война.
Когда он очутился спустя три года на Майдане, я не удивился. В первой же своей статье на эту тему, где мной было написано, что никакой Европы для Украины не предусмотрено, и Майдан, выиграв сейчас, проиграет в перспективе, я назвал Бабченко своим приятелем. Сказал: мой приятель там у вас, и у меня есть к нему вопросы.
Статья моя заканчивалась предсказанием: со временем украинцы, поняв, что итоги Майдана ничтожны и бездарны, начнут бить российских либералов, которые звали их в светлое будущее, обещая манны небесные и кисельные берега. Будут, написал я, при встрече отвешивать российским либералам оплеухи. За чудовищную разводку.
Но я не догадывался, что будет несколько хуже.
Не хочу накликать на кого-то победу, но на месте переехавших туда вместе с Аркашей, я бы вернулся в Россию. Тут вас не убьют. Даже бить не станут.
Что же случилось тогда с Аркадием?
Он стал наркоманом. В переносном смысле.
Он был отличный блогер — с чутьём слова, остроумный, лаконичный, циничный.
Он начал много писать, и вдруг стал знаменит. Ему это принесло удовольствие. Хотя до тех пор мне казалось, что он спокойней к этому относится. Нет, Аркаша подсел.
Через короткий промежуток времени вместо пяти тысяч подписчиков у него стало пятьдесят. Тысячи лайков, сотни перепостов. Люди из Киева, из Одессы, которые тогда ещё общались со мной, писали мне, что Аркадий Бабченко — новый народный украинский герой, один из последних вменяемых русских.
Он подсел на это обожание. Его обожали, и это стало его вштыривать.
Помню, когда Майдан победно завершился, тут же где-то на Западе Украины изуродовали памятник Кутузову, а следом раздолбили мемориал павших в Великой Отечественной. В очередной своей колонке я спросил: Аркадий, ты этой победы желал? Это ты, Аркаша, сказал я, привёл подобных людей к власти, наслаждайся теперь.
У него тогда ещё оставалось что-то в том месте, где находится совесть. Он лично мне не ответил, но тут же написал пост: что, мол, украинцы, я вам помог, а теперь вы сами должны решить, что вам строить — европейскую демократию или фашистское государство. Тогда ему ещё не хотелось отвечать за фашистов.
Он вернулся в Москву. Ему, наверное, хотелось теперь просто наблюдать. Но тут началось: Крым, Харьков, Русская весна.
И Аркадий вдруг понял, что не может слезть с этой наркоты.
Он стал радикализироваться.
Тем более, теперь у него стало уже сто тысяч подписчиков, и они всё время раскрывали клювы: корми нас.
Кажется, это был последний раз, когда я спросил у него: Аркадий, а чем люди в Севастополе, которые вышли на площадь, отличаются от людей в Киеве, которые вышли на площадь? Ты же за демократию? Вот тебе демократия!
На этот раз он уже не отвечал.
Он вдруг объявил о своих украинских корнях. Потом о еврейской бабушке. Потом о том, что он жидобандеровец.
Потом приехал к Славянску, в самом начале АТО, и в тот день, когда была бомбардировка города, сфотографировался с раскрытой банкой тушёнки, весёлый, и подписал: «Сегодня было жарко». Ну да, в тот день погибли первые мирные. Их убили бомбы новой свободной Украины.
Зато Аркадий обрёл свой народ и свою правду. Через подписчиков. Он больше не мог без подписчиков.
В зоне АТО ему однажды надели на башку чёрный мешок и увели расстреливать, как российского шпиона. Но это ни в чём его не убедило. Он просто уехал в Москву и стал из Москвы рассказывать, что мы звери, скоты и террористы. А там — свободные люди.
И, опа, ещё 15 тысяч лайков за пост.
Пару раз он пытался вразумить свою паству в Фейсбуке — когда их добробаты, к примеру, кого-то резали на части и закапывали на глубину, — но подписчики вдруг бросались на него, и в течение суток Аркаша получил сотни комментариев о том, что он москаль, животное, свинособака, финноугр, путинская подстилка, так и не осознавший степени майданной свободы.
Аркаша долгое время был уверен, что это он пасёт свою паству. А это паства пасла его.
Он стал её заложником.
Ради паствы он начал звереть. Зверьё он кормил собой, озверевшим.
Отсюда пошли его пляски на могиле доктора Лизы, на могиле Моторолы, на могиле любого умершего, погибшего, разбившегося, затоптанного русского.
У Аркаши уже не было пути назад, он стал торчком — законченным, потерявшим совесть, с оловянными глазами человека, способного продать родную мать.
Только мать его заставляла меня хранить к нему хоть какое-то человеческое чувство. Мать его, уточните, если я ошибаюсь, усыновила трёх детей и воспитывала их. Я думал всегда: значит, в этом выродке, есть что-то человеческое — он же её сын. В нём течёт её кровь.
Когда его убили, первой мыслью пришло ко мне вот что.
На фронте, в бою приходится убивать людей — это неизбежно, ничем другим там люди и не занимаются.
Я знаю много парней, которые убили много других парней. И я уверю вас, что ничего с ними не случится до самой смерти.
На войне многое можно, на то она и война.
Нельзя только радоваться убийству другого человека. Вслух, самозабвенно, ликуя и пританцовывая. Вот это — смерть, причём твоя собственная.
Аркаша стал самоубийцей после первого же поста о крушении российского самолёта. Или даже после того поста из-под Славянска, про «…сегодня было жарко». Он рыл себе могилу последовательно и весело.
Однако если б он жил в Москве, ему ещё долго пришлось бы искать тот канализационный люк, куда бы он провалился. Его бы никто не тронул здесь. Много позже он просто спился бы и упал с табуретки. Но потом.
А сегодняшний Киев — это другое.
Зачем его убили?